Что такое модальные слова как особый грамматический тип
либо отношения всего высказывания или предложения к реальности, называемые субъективно-объективными, или модальными. В кругу модальных отношений обыкновенно рассматривают отрицание и утверждение, всякого рода наклонения, разнообразные субъективные оттенки значений, облекающие формы времени, и т. п.
Модальные отношения выражаются не только грамматическими формами глагола или особыми формальными показателями. Они могут выражаться также своеобразным «вводным» использованием как форм разных частей речи, так и целых синтагм или даже предложений. Но в русском языке для выражения категории синтаксической модальности существует и отдельный лексико-семантический разряд слов. Понятно, что многие слова и даже вводные словосочетания и «предложения», обозначающие отношение предложения или частей его к реальности, могут превратиться в частицы и грамматикализоваться, т. е. они становятся простыми грамматическими выразителями модальности предложения, лишенными лексической самостоятельности и раздельности.
Модальные слова в живом процессе речи не примыкают к одним и тем же членам предложения и не служат определением или распространением слов какого-нибудь одного или нескольких грамматических классов. Они стоят вне связи с какими-нибудь определенными частями речи. Они выражают модальность высказывания в целом или отдельных его компонентов. Иногда они выступают в роли стилистического ключа, открывающего модальность предложения. Иногда они оправдывают, мотивируют выбор или употребление отдельных слов, подчеркивая их экспрессию. Во всех этих случаях модальные слова лежат как бы в иной грамматической плоскости по сравнению со всеми другими элементами высказывания, хотя нередко и приближаются к частицам речи (частицам).
По мнению грамматистов, они находятся «вне предложения», лишь «примыкая» к нему (Овсянико-Куликовский). Не вступая в связь с другими словами, «они не являются членами предложения, хотя бы даже служебными» (Пешковский). Они нередко выделяются и интонационно. Модальные слова и частицы определяют точку зрения говорящего субъекта на отношение речи к действительности или на выбор и функции отдельных выражений в составе речи. Выражая оценку высказываемой мысли или способа ее выражения, они граничат одной своей стороной с «частицами речи», с реляционными словами, но резко отличаются от основных разрядов или классов их (предлогов и союзов) своими синтаксическими функциями. Так как этот класс слов (и примыкающих к ним частиц) в русском зыке стремительно возрастает (особенно в XVIII-XX вв.), включая в себя и устойчивые фразеологические единства и сочетания, то и морфологические типы слов и фразеологических единиц, в него входящих или к нему тяготеющих, очень разнообразны и разнородны.
Вопрос о модальных словах в грамматической традиции.
Указания на связь модальных слов с категорией наречия и на близость их значений к функциям глагольного наклонения.
Своеобразное положение модальных слов в ряду других грамматических категорий отмечалось в руководствах по русскому языку с начала XIX в. Но четкой грамматической характеристики этого типа слов там найти невозможно. Модальные слова долго не выделялись как самостоятельная категория. Они смешивались с наречиями. Это естественно. Недаром в славяно-русских грамматиках до конца XVII в. даже междометия включались в класс наречий. Категория наречий исстари являлась свалочным местом для всех так называемых «неизменяемых» слов. Однако для отнесения модальных слов к наречиям были и другие, более близкие исторические причины: многие модальные слова образовались из наречий. Грамматическое своеобразие модальных слов давно бросалось в глаза. Но скованные теорией античной грамматики,, русские лингвисты XIX в. рассматривали их в составе наречий как особый разряд. Так, Востоков называет модальные слова наречиями, «определяющими подлинность действия и состояния». Смешивая их с наречиями и частицами, он различает пять групп «наречий» с модальными оттенками.
«I. Вопросительные: разве, неужели, ужели.
II. Утвердительные: подлинно, истинно, в самом деле, действительно и пр.
III. Предположительные: авось, может быть, никак, едва ли, чуть ли, вряд и пр.
IV. Отрицательные: не, ни.
V. Ограничительные: токмо, только, единственно, лишь».
Н. И. Греч также выделил в особый разряд «наречия, определяющие свойство и образ бытия, существования предмета, а именно:
а) с утверждением: подлинно, истинно, неоспоримо, точно, непременно;
б) с показанием возможности: может быть, авось, вероятно, чуть ли, едва ли, вряд ли и пр.;
в) с отрицанием: не, отнюдь не, никак, нимало;
г) с выражением вопроса: разве, неужели».
В последующих грамматических описаниях русского языка модальные оттенки этих слов и частиц очерчиваются еще ярче. В центре внимания оказывается вопрос об отношении их к другим формам выражения модальности суждения в русском языке. Так, отмечается тесная связь «вводных слов» с категорией наклонения (т. е. категорией глагольной модальности). Например, в «Опыте общесравнительной грамматики» И. И. Давыдова читаем: «Кроме наклонений, к тому же служат некоторые наречия, придаваемые сказуемому для действительности: точно, подлинно, действительно; для возможности: может быть, ведь, авось, едва ли, вероятно; для необходимости: непременно, должно быть, знать, видно, стало быть».
Русская грамматическая наука постепенно приходит к сознанию необходимости рассматривать модальные слова как особую категорию. Синтаксико-генетическая точка зрения на эту категорию, выдвинутая Потебней (ср. хотя бы его анализ слова знать во втором томе «Из записок по русской грамматике»), оказала решающее влияние на современное грамматическое учение об этих словах. Потебня доказывал происхождение модальных слов из вводных предложений и подчеркивал их независимое положение среди других членов предложение. Самое название модальных слов «вводными» только внешне обозначало их место в связной речи, но не определяло иж внутренней грамматической природы в современном языке.
Впрочем, отголоски старого смешения модальных слов с наречиями очень заметны в «Общем курсе русской грамматики» В. А. Богородицкого и в «Синтаксисе русского языка» акад. А. А. Шахматова. Проф. В. А. Богородицкий целиком сливает вводные слова с категорией наречия. А. А. Шахматов во втором (необработанном) выпуске своего «Синтаксиса», излагающем теорию частей речи, распределял модальные слова без всякой системы по разным грамматическим категориям, руководствуясь внешними и разнородными признаками. Большая часть модальных слов им присоединяется к наречиям и — что не совсем обычно — к союзам.
В категорию наречия Шахматов зачисляет такие слова, как небось, мол, знать и т. п. Однако некоторые из тех же модальных слов попадают и в союзы. Так, Шахматов называет союзами «видите ли, так сказать и тому подобные выражения, означающие переход от одной мысли к другой или просто средства возбудить внимание собеседника». Кроме того, вскользь А. А. Шахматовым отмечается разряд «союзов, обнаруживающих ту или иную мысль, ту или иную цель говорящего (гыт, мол, с)». Как и во многих других случаях, А. А. Шахматов и тут находит пути глубокого синтеза разных взглядов.
В первом выпуске «Синтаксиса» он устанавливает взаимодействие между «вводными предложениями» и категорией наречий-обстоятельств. В специальном разряде, посвященном «вводным словам» в составе предложения, А. А. Шахматов пишет: «В значительном числе случаев значение и грамматическую функцию таких слов можно сравнить со значением и функцией обстоятельств, следовательно, наречий, но связь вводных слов со сказуемым (или главным членом предложения) гораздо слабее, чем связь с ним обстоятельств; они представляются устранимыми без нарушения смысла предложения, а формальным их отличием является возможность быть замененными полным предложением. Это обстоятельство стоит в связи с самим происхождением вводных слов. Они являются редуцированными по своему смыслу предложениями».
А. А. Шахматов тонко описывает синтаксические процессы сближения и смешения модальных слов с наречиями.
Он выделил особую категорию «сопутствующего обстоятельства», которое выражается «наречием: 1) не зависящим от того или другого слова в предложении, но занимающим тем не менее второстепенное место, зависимое от всего предложения в его совокупности; 2) зависящим от отдельного слова». Эту группу наречий А. А. Шахматов тесно связывает с вводными словами. И действительно, в большей своей части разряд шахматовских «сопутствующих обстоятельств» состоит из модальных слов.
Например: «А мне, никак, опять есть хочется» (Тургенев, «Холостяк»); «Вам теперь есть, поди, нечего, а она в колясках разъезжает» (Горбунов, «Смотрины и сговор»); «Делать ей нечего — вот она хвост и треплет… Хвостотрепка! Право, хвосто-трепка!» (Е. Карпов, «Зарево»); «Он, видно, замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постели и дремал» (Л. Толстой, «Война и мир»); «Чай-то от хозяйки, что-ль? — спросил он… Она поставила перед ним свой собственный, надтреснутый чайник» (Достоевский, «Преступление и наказание»).
А. А. Шахматов первый указал пути и возможности перехода наречий в модальные слова. Так как модальность предложения, помимо вводных слов, выражается формами наклонения, то А. А. Шахматов стремился точнее определить отношения между вводными словами и формами наклонения. Выделяя особое «недействительное наклонение» (форму прошедшего времени с частицей было), А. А. Шахматов отмечает чистое «сопровождение» его модальными словами чуть, едва (Она чуть было не заплакала с досады; Он едва не ударил меня). «Предположительное наклонение», морфологически обнаруживающееся лишь в употреблении будет со значением настоящего времени (Он будет дома; Вы будете такой-то), чаще всего, по Шахматову, аналитически выражается словами: кажется, вероятно, едва ли, чуть ли не, может быть и т. п. — в сочетании с формами изъявительного наклонения.
После работ Шахматова близкая связь модальных слов с наречиями и частицами, а также тесное взаимодействие их с категорией наклонения стали очевидны для многих. Грамматики учили: «К частицам, обозначающим косвенные наклонения, близки по значению такие частицы, как будто, словно, дескать, де, указывающие на отношение говорящего к высказыванию, как к чужому, а также частицы вопросительные: разве, неужели, ли и пр.». С этими частицами сопоставлялись слова, «выражающие субъективную оценку, сомнение или уверенность: авось, будто, вряд ли, именно, как-нибудь, как раз, конечно, наверняка, небось, никак, поди, право, просто, разумеется, словно, так (не смешивать с союзами будто, словно, так и с наречиями определительными: никак, просто, так)». Например: «Как никак, а если ехать, то уже пора» (Чехов); «Никак ты пьян?» (Горбунов); «Просто беда моя» (Горбунов); «Она просто никто… Человек без прошлого» (Лесков, «На ножах»).
В предшествующей грамматической традиции отмечены такие черты в строе и составе модальных слов:
1. Тесная связь многих разрядов модальных слов с наречиями. Наречия легко переходят в модальные слова или сближаются с ними по синтаксической функции. Ослабление синтаксической связи между наречием и тем словом, к которому оно примыкает, способствует этому переходу.
2. Наличие, наряду с модальными словами, большого количества модальных частиц. Граница между модальными словами и частицами оказывается очень подвижной. Многие модальные частицы являются результатом семантического «усыхания», или опустошения, слов. Модальные частицы отличаются от других разрядов частиц тем, что они относятся не к какому-нибудь отдельному слову предложения, а к предложению в целом. Ср., например, частицы мол, де, дескать и т. п.
3. Однородность функций модальных слов и частиц с функциями глагольного наклонения. Относясь ко всему предложению и выражая возможность, нереальность, достоверность и т. п., модальные слова и частицы оттеняют значения глагольного наклонения. Чем менее полновесно модальное слово, тем более его лексическое значение растворяется в общем модальном значении высказывания (например: Я едва ли завтра уеду).
4. Широкое распространение модальных значений и оттенков в кругу других типов частиц, кроме предлогов. А. А. Шахматовым была высказана, но не развита мысль о глубоком влиянии модальных слов и частиц на союзы.
5. Функциональная близость модальных слов и частиц к вводным предложениям (и вводным синтагмам).
Эту последнюю мысль поддерживал и Шахматов. Идет же она от Потебни. А дальнейшее развитие она получила в синтаксических трудах Д. Н. Овсянико-Куликовского и A. M. Пешковского.
Так как эта точка зрения заслонила все другие и мешает всестороннему изучению модальных слов, то на ней следует остановиться подробнее.
Состав лексико-грамматической категории модальности с точки зрения этимологической
Класс модальных слов и частиц в его современном виде представляет собою продукт сложных изменений грамматического строя русского языка. Он очень пестр по своему лексическому составу, по этимологической природе относящихся и тяготеющих к нему словесных элементов.
Ведь и так называемые вводные слова включают в свой состав и фразеологические сочетания, и полновесные слова, и частицы. Кроме того, по общепринятому мнению, к ним примыкают, функционально с ними сближаются разнородные синтаксические конструкции, Свободно разлагающиеся на разные части речи. Действительно, в категории модальности сближаются по функциям и объединяются слова и выражения разного строения и разного значения. Отделение модально-определительных частиц от вводных слов иногда в высшей степени затруднительно.
К некоторым группам модальных частиц меньше всего подходит название «вводных слов» и связанное с ним понятие об интонационно-синтаксической обособленности вводного члена предложения.
I. Модальные частицы
В самом деле, у нас есть богатая и разнообразная серия модальных частиц, которые, вследствие интонационной слитности с словосочетанием (синтагмой), нередко зачисляются грамматикой на склад наречий, а иногда даже союзов. Но от наречий их резко обособляет самый характер выражаемого ими модального отношения. Например, вряд, вряд ли, прост, навряд, навряд ли (ср.: «Но зачем он это делал, и сам хорошенько того не знал, да вряд ли и хозяева-то ведали» — Писемский, «Тысяча душ»), едва ли (Едва ли вам удастся кончить работу к сроку), чуть не, чуть ли не, едва ли не и т. п. Ср. модальные значения таких частиц, как да (Да, я и забыл: у меня есть к тебе письмо; «Да, были люди в наше время» — Лермонтов), ведь, все же, не то, и так, и то vi т. п.; ср. модальное употребление частицы еще для подчеркивания какого-нибудь признака, факта.
Гораздо менее определенны модальные оттенки некоторых выражений, представляющих собой переходный тип между модальными словами, наречиями и усилительно-ограничительными частицами. Например, просто: «Ах, как она одевается! Не то чтобы не красиво, не модно, а просто жалко» (Чехов, «Три сестры»); «Просто беда моя!» (Горбунов, «Самодур»); ср. у Гончарова : «Ни изнеможения, ни вялости, ни мертвого вида, — просто смешон» («Слуги старого века»); «Это просто были крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун» (Тургенев); «Он не то чтобы начетчик или грамотей… не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера, он просто был характера упрямого» (Достоевский). Ср.: прямо, ровно (в значении: как будто, вроде как, кажется), точно и т. п.
А. А. Шахматов находил в современном русском языке формы недействительного и предположительного наклонений. Они образуются из сочетания личных форм глагола с модальными частицами, выражающими недействительность или предположение (например: Я едва не упал). Однако отношение большей части этих модальных частиц к глаголу остается свободным. Оно не связано с утратой ими лексической самостоятельности, с превращением их в агглютинативные морфемы, в «прилепы». По-видимому, к ступени агглютинации еще только приближаются сочетания формы прошедшего времени совершенного вида глагола с частицей было для обозначения действия с неосуществленным или аннулированным результатом. Например: «Я вздумал было приняться, как говорится, за дело» (Тургенев, «Гамлет Щигровского уезда»).
Все это говорит о том, что прежде всего необходимо разобраться в составе модальных частиц с этимологической точки зрения, с точки зрения их происхождения.
1. Одни из модальных частиц относятся ко всему предложению. Относясь к целому предложению, модальные слова или формы разных частей речи, несущие модальную функцию, легко редуцируются в частицы. Этому способствует и своеобразие их интонационно-мелодической фразировки (ср. гыт, грит вместо говорит). Конечно, на их переход в частицы больше всего влияет ослабление их лексического значения или изменение их грамматической функции. Особенно резкому преобразованию подвергаются те модальные слова, которые указывают на цитаты из чужой речи, на субъективно окрашенную передачу чужой речи. Ведь чужая речь в передаче другого человека обычно выделяется своеобразиями словаря и синтаксиса. Поэтому формы и значения вводных глагольных слов, указывающих или указывавших на то, что говорящий воспроизводит чужие слова, при отсутствии задерживающих условий, очень неустойчивы. Часть модальных частиц именно этого типа: разговорное мол (из молви или молвил), просторечное дескать (из де и сказать), устарелое де (из дЬе = говорит), грит или гыт (= говорит) и др.
2. Другая группа модальных частиц возникла из глагольных форм, выражавших субъективную оценку какой-нибудь мысли, какого-нибудь сообщения или эмоциональное отношение к ним со стороны говорящего, например: чай (из чаю, т. е. предполагаю, ожидаю), знать, чуть (из инфинитива чути; ср. чую; эта частица сливается с отрицанием и обычно относится не ко всему предложению, а к личному глаголу).
3. Третья группа модальных частиц образовалась из глагольных форм, представляющих собой призыв к собеседнику или обращавших его внимание на что-нибудь в сообщении. Таковы: вишь, пожалуй, небось и некоторые другие. Ср. пусть, прост.-обл. пущай, укр. нехай и т. д.
Ср. устар. чу, перешедшее в междометие.
По функциям некоторые частицы этого рода сблизились с частицами предшествующей группы.
4. Четвертая группа модальных частиц восходит к формам вспомогательного глагола в сочетании их с местоимениями и однородна с современными союзами, например будто, ср.: как бы, будто бы, не то чтобы.
Легко заметить, что частицы этой группы относятся не только ко всему
Предложению, но и к отдельным его членам.
5. Пятая группа модальных частиц — наиболее многочисленная — местоименного происхождения и частично однородна с современными союзами и наречиями. Сюда относятся: авось, что ли, никак, как-то и т. д.
Слова-частицы этой группы обычно выражают модальные оттенки высказыванья в целом.
6. Шестая группа модальных частиц произошла из наречий и однородна отчасти с наречиями, отчасти с союзами. Например: просто, прямо, словно (в просторечном значении: как будто, кажется), точно и т. п.
Слова-частицы этой группы чаще выражают модальность предиката.
7. Напротив, модальный оттенок предложения в целом выражается переходными частицами союзно-наречного типа вроде: напротив, наоборот, впрочем и другие подобные.
8. Восьмая группа модальных частиц однородна с междометиями, например: ну, нда и т. п.
9. Девятая группа модальных частиц представляет собою продукт сращения разных сочетаний слов с частицами, например: может быть (ср. может), то-то и есть, и есть. Выражение и есть имеет явные грамматические признаки модальной частицы.
— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Базаров к ямщику.
— Слышь, Митюха, — подхватил другой тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа: — барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть (Тургенев, «Отцы и дети»).
Таким образом, многие группы модальных выражений, небольших по объему, преимущественно восходящих к старым местоименным и глагольным формам, превращаются в частицы. Этот процесс естествен. В нем отражается расширение формально-синтаксических функций категории модальности. А это явление находится в связи с все большим развитием аналитического строя русского языка. Разные модальные значения и оттенки высказывания начинают выражаться формальными словечками. Возникает особая категория «модальных частиц предложения», которые отличаются от союзов тем, что выражают не связи между синтаксическими группами в составе речи, а разные качества самого высказывания или его частей, их отношение к действительности.
Однако полному превращению этих модальных частиц в особый тип служебных морфем мешает широкое развитие модальных значений у полновесных слов и даже словосочетаний.
Модальные частицы нередко однородны по своим функциям с лексически полновесными модальными словами и синтагмами. Эта общность функций сближает их в пределах одной грамматической категории. Кроме того, морфологические границы между частицами-морфемами и словами вообще условны и текучи (ср., например, такие модальные слова-частицы, как: конечно, право, прямо, просто, верно и т. п.).
II. Модальные слова
Граница между модальными частицами и модальными словами очень неопределенна и подвижна. В оценке выражения с этой точки зрения играют роль и его фонетические свойства, и его смысловой вес, и система разных его значений, и его функциональные связи с другими словами.
1. Среди модальных слов в современном языке преобладают слова наречного происхождения (а иногда и гибридного наречно-модального значения), однородные с качественными наречиями на -о. Например: действительна буквально, нормально, решительно, собственно, верно, безусловно, подлинно и т. п.
2. Довольно многочислен разряд модальных слов, однотипных с словами категории состояния. Например: видно (ср. видать), слышно, полно, облает. должно, очевидно, вероятно, понятно и т. п.
3. После от наречных образований самым продуктивным разрядом модальных слов являются отглагольные слова. По своему образованию они представляют собой личные или безличные формы настоящего-будущего времени или форму инфинитива. В некоторых случаях можно говорить о простом употреблении формы какого-нибудь глагола в функции модального слова, в других — о превращении такой формы в отдельное слово с модальным значением. Таковы:
а) модальные слова, однородные с личными формами глагола, иногда осложненными присоединением вопросительной частицы ли, например: признаюсь, видишь, веришь ли, видите, знаете ли, извините и др.;
б) модальные слова, однородные с неопределенно-личными формами глагола: говорят, передают и некоторые другие;
в) модальные слова, однородные с безличными формами глагола: разумеется, кажется, говорится, что называется, значит и другие подобные;
г) модальные слова инфинитивного типа: признаться, видать, знать и т. п.
4. Малопродуктивен тип модальных слов, представляющих собой изолированные формы имени существительного с предлогом и без предлога и иногда напоминающих наречия. Например: словом, кстати, в частности и другие подобные.
5. Единичны образования от членных прилагательных (с пропуском слова дело): главное. Ср.: самое большее, самое меньшее.
III. Модальные словосочетания (фразеологические единицы)
Все шире и шире в категорию модальности вовлекаются целые фразеологические сочетания, фразеологические единства и фразеологические сращения. Выделяются два основных типа их: глагольный и именной.
В глагольном типе намечается несколько разновидностей:
1) деепричастные словосочетания (обычно включающие в себя формы глагола говорить): собственно говоря, коротко говоря, откровенно говоря, вообще говоря, иначе говоря и т. п.;
2) инфинитивные словосочетания: так сказать, признаться сказать и некоторые другие; ср. шутка сказать;
3) лично-глагольные словосочетания, например: бог знает, кто его знает и другие подобные; ср.: «Лежит, как пласт, а жар от него, боже ты мой! Я подумал, кто его знает, умрет того и гляди» (Тургенев, «Накануне»).
Состав таких модальных фраз очень разнообразен, и многие из них представляют собой свободные сочетания слов. Изучение типов свободно формируемых синтагм, которые способны выполнять в той или иной системе языка модальную функцию, — задача исторического синтаксиса русского языка;
4) безлично-глагольные словосочетания: стало быть, должно быть и т.п.; ср.: не в обиду будь сказано.
В кругу модальных словосочетаний именного типа особенно употребительны типизованные, но свободные сочетания слов двух разрядов:
1) выражения, состоящие из дательного падежа имени существительного с предлогом к: к моему несчастью, к сожалению, и нередко осложняемые формой прилагательного (в том числе и местоименного), формой родительного падежа существительного или личного местоимения: к изумлению (всех присутствовавших), к общему восхищению, к прискорбию и т. п.;
2) словосочетания, состоящие из дательного падежа имени существительного с предлогом по, обычно с присоединением определения в форме согласуемого прилагательного или родительного падежа личного местоимения или имени существительного: по мнению, по словам, по выражению такого-то, По слухам, по преданию; ср. фразеологические единства: по всей вероятности, по всей видимости, по крайней мере.
Кроме двух видов свободных словосочетаний к именному типу принадлежит небольшое количество неделимых фразовых единств:
1) словосочетания, состоящие из беспредложной формы имени существительного и определяющего слова: одним словом (ср. словом);
2) обособленное: в самом деле;
3) изолированное: в конце концов;
4) ср. также словосочетания из местоимения и прилагательного: чего доброго;
5) словосочетания местоименного характера: как-никак, всего-навсего и др.; ср.: кроме того, сверх того, помимо того и др.;
6) словосочетания междометного характера.
В тех же модальных функциях могут выступать и свободные словосочетания и вставные предложения, анализ которых далеко выходит за пределы грамматического учения о слове.
Статья на тему Модальные слова

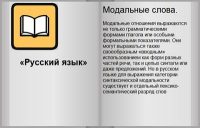
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.